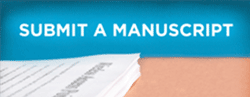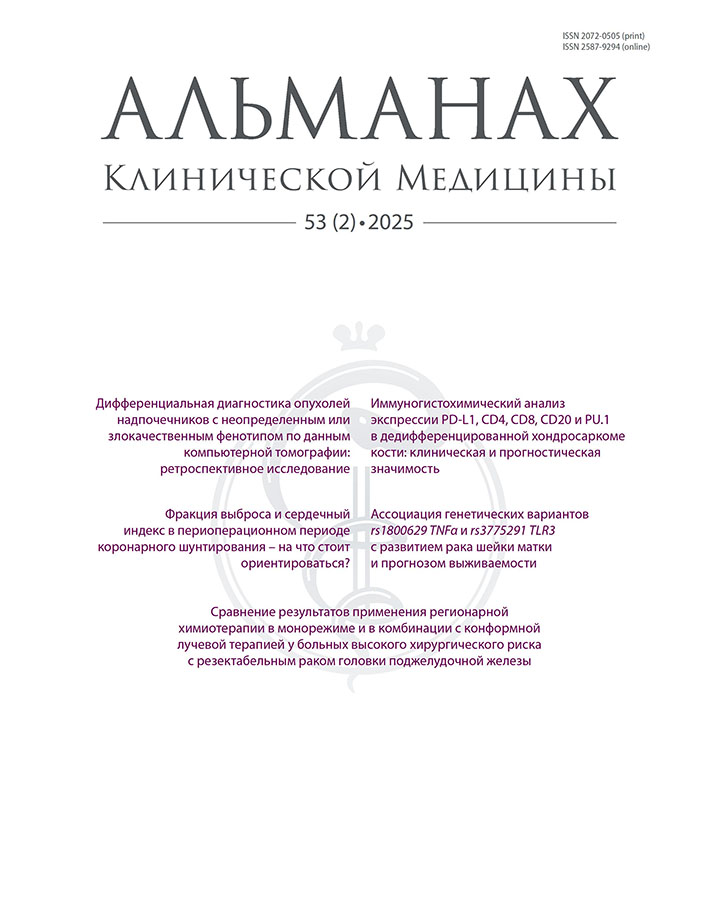Vol 47, No 7 (2019)
REVIEW ARTICLE
Cardiomyopathies associated with the DES gene mutations: molecular pathogenesis and gene therapy approaches
Abstract
 603-613
603-613


INVITED ARTICLE
Prevention of epileptogenesis as a future strategy for the treatment of epilepsy
Abstract
 614-622
614-622


POINT OF VIEW
Cell technologies in the regenerative medicine of the heart: main problems and ways of development
Abstract
 623-629
623-629


Application of artificial intelligence in medical data analysis
Abstract
 630-633
630-633


The current state and promising innovative directions to development methods for bioimplant sterilization
Abstract
 634-646
634-646


ARTICLES
In vitro и in vivo photodynamic therapy of solid tumors with a combination of riboflavin and upconversion nanoparticles
Abstract
Rationale: Riboflavin (vitamin B2) is one of the most promising agents for photodynamic therapy (PDT). However, its use is limited by the excitation in the ultraviolet (UV) and visible spectral ranges and, as a result, by a small penetration into biological tissue not exceeding a few millimeters. This problem could be solved by approaches ensuring excitation of riboflavin molecules within tumor tissues by infrared (IR) light. Upconversion nanoparticles (UCNPs) can be potentially considered as mediators able to effectively convert the exciting radiation of the near IR range, penetrating into biological tissue to a 3 cm depth, into the photoluminescence in the UV and visible spectral ranges.
Aim: To evaluate the efficacy of UCNPs for IR-mediated riboflavin activation in the depth of tumor tissue during PDT.
Materials and methods: The water-soluble riboflavin flavin mononucleotide (FMN, Pharmstandard-UfaVITA, Russia) was used as a photosensitizer in in vitro and in vivo experiments. The in vitro experiments were performed on human breast adenocarcinoma SK-BR-3, human glioblastoma U-87 MG, and rat glioma C6 cell lines. Lewis lung carcinoma (LLC) inoculated to hybrid BDF1 mice was used as a model to demonstrate the delivery of FMN to the tumor. UCNPs with a core/shell structure [NaYF4:Yb3+, Tm3+/NaYF4] were used for photoactivation of FMN in vivo. PDT based on FMN, UCNPs and laser radiation 975 nm (IR) was performed on mouse xenografts of human breast adenocarcinoma SKBR-3.
Results: We were able to show that FMN could act as an effective in vitro photosensitizer for SK-BR-3, U-87 MG, and C6 cell lines. FMN IC50 values for glioma cells were ~30 μM, and for SK-BR-3 cell line ~50 μM (24 h incubation, irradiation 4.2 J/cm2). In the LLC model, the appropriate concentration of FMN (30 μM and above) can be achieved in the tumor as a result of systemic administration of FMN (at 2 and 24 hours after injection). The effect of PDT using near IR light for UCNP-mediated excitation of FMN was demonstrated in mouse xenografts SKBR-3, with the tumor growth inhibition of 90±5%.
Conclusion: The study has demonstrated the possibility to use riboflavin (vitamin B2) as a photosensitizer for PDT. The photoexcitation of FMN via the anti-Stokes photoluminescence of UCNPs allows for implementation of the PDT technique with the near IR spectral range.
 647-653
647-653


Prognostic value of lung ultrasonography after on-pump cardiac surgery
Abstract
Rationale: Along with bedside plain chest radiography, lung ultrasonography is being increasingly used for detection of postoperative respiratory complications.
Aim: Our study was aimed at the evaluation of lung ultrasonography efficacy for the diagnosis of postoperative respiratory complications in patients after the on-pump cardiac surgery.
Materials and methods: The study included 39 patients who had undergone elective cardiac on-pump surgery. Assessment of hemodynamic parameters and blood gases was done at admittance to the intensive care unit (ICU), as well as at 6 and 24 hours after surgery. Lung ultrasonography was also performed including counting of B-lines in 12 lung quadrants at 6 and 24 hours after surgery, as well as chest radiography at 24 hours. Duration of mechanical ventilation, time in ICU and in-hospital stay were also evaluated.
Results: Gas exchange deterioration was associated with increased numbers of B-lines: 9 (5 to 15) at 24 hours after surgery. In the patients with PaO2/FiO2 above 300 mm Hg the number of B-lines at 24 hours after surgery was 4 (2 to 8) (р = 0.04). Plain chest radiography at 24 hours after surgery revealed abnormalities in 69% of the patients. Discoid atelectases were the most common findings (n = 13). The ROC analysis showed that increased numbers of B-lines above 10 at 6 hours after completion of the surgery was predictive of the development of X-ray abnormalities at 24 hours (AUC 0.82, р = 0.02, sensitivity 86%, specificity 76%). At 6 hours after the intervention the patients who subsequently required prolonged mechanical ventilation had increased numbers of B-lines (15 [14–27]) compared to those who could be extubated within the first 24 hours after surgery (10 [3–13], p = 0.02).
Conclusion: Lung ultrasonography monitoring accelerates the diagnosis of respiratory problems after cardiac surgery and allows timely identification of the patients requiring prolonged respiratory support and ICU stay.
 654-661
654-661


Is the microvasculature tone increasing with arterial hypertension?
Abstract
Rationale: An increase in vascular tone is believed to be a major factor leading to arterial hypertension (AH). There are no means for a direct measurement of the vascular tone in clinical practice. Perfusion assessment by laser Doppler flowmetry (LDF) allows for an indirect evaluation of the vascular tone of the microcirculation system. Perfusion is assessed by the change in blood flow per unit of time in the given area. Therefore, this parameter should be inversely correlated with vascular tone. Aim: To compare the forearm skin perfusion measured by LDF in patients with AH and healthy volunteers with normal blood pressure, and to review the feasibility of this parameter for the assessment of the microvasculature tone.
Materials and methods: The study was carried out in two groups: group one, patients with AH (n = 43; age 62 [57; 71] years), and group 2, healthy volunteers without AH (n = 62; age 28 [24; 37] years). The perfusion in the forearm skin was measured by LDF for 2 minutes without any functional tests. "Baseline perfusion” for each subject was calculated as the average perfusion rate in a representative portion of the microcirculatory curve.
Results: Median of basic perfusion in the forearm skin in the patients with AH is significantly higher than that in the normotensive individuals: 4.88 [2.87; 8.98] PU and 3.41 [2.47; 4.99] PU, respectively (p = 0.013). The interquartile range of the baseline perfusion in the control group was chosen as provisional threshold values for the "normal” perfusion level. In 39.5% of patients with AH, their basic perfusion was within the "normal level”; 46.5% of the patients had the baseline perfusion above the "normal level”, which might be due to reduced tone of the peripheral vessels. Only 14.0% of the patients had a decreased level of the basic perfusion.
Conclusion: An increase in the skin perfusion in some patients with AH may indicate a decrease in their peripheral vascular tone, which could be a potential compensatory reaction in response to the rise in blood pressure. The results obtained could have been influenced by the age-related changes in the cardiovascular system, drug therapy, etc. Further studies into the specifics of peripheral vasculature seem reasonable. They can contribute to the understanding of the pathophysiology of AH in a given patient and, in future, could be used to guide a personalized choice of therapy.
 662-668
662-668


Changes in the morphology of erythrocytes after in vitro exposure of blood to carbon monoxide
Abstract
Background: One of the pathological effects of carbon monoxide (CO) on blood is the formation of carboxyhemoglobin. Carboxyhemoglobin completely blocks oxygen transfer; therefore, there is a net decrease in oxygen transport by red blood cells potentially resulting in tissue hypoxia. The effects of CO on blood can also damage cell membranes. Atomic force microscopy (AFM) has been recognized as effective for investigation into the mechanisms of structural damage in erythrocyte membranes. Aim: By means of AFM, to identify characteristics of changes in morphology and aggregation of erythrocytes exposed to CO in vitro.
Materials and methods: All experiments were performed in vitro. We studied the morphology of erythrocytes and their aggregates with AFM. Blood sampling (150 μl) in microvettes with EDTA (Sarstedt AG & Co., Germany) was carried out during a prophylactic work-up of 5 volunteers. To obtain CO in a test tube, formic acid was mixed with sulfuric acid 1:1. Blood levels of carboxyhemoglobin were measured by spectrophotometry. A nonlinear fitting method of the experimental spectra was used to calculate the concentrations of hemoglobin derivatives in blood. Statistical analysis was done with the Origin software (OriginLab Corporation, Northampton, MA, USA).
Results: After CO exposure, a shift in peaks was observed. At exposure time t₂=320 s, the percentage of carboxyhemoglobin (CHbCO) was 88±2%. As a result of blood exposure to CO, at t₁=160 s 10% of the cells differed in their shape from discocytes, whereas at t₂=320 s their proportion was 38%. With increasing duration of exposure to CO, erythrocyte aggregation occurred with formation of their large conglomerates up to 30 μm in size. In the control smear, the proportion of discocytes was 96±2%, and the remaining 4±1% of the cells had the form of echinocytes. The cell diameter (Dcont) was in the range 7.5±0.8 μm. After blood exposure to CO at t₁=160 s in the monolayer, 28±5% of cells had a diameter less than<5.7 μm. After CO exposure at t₂=320 s, the proportion of cells with a diameter of less than<5.7 μm increased to 72±11%.
Conclusion: The experiments have shown that blood exposure to CO changed the morphology of erythrocytes. The formation of interconnected structures made of red blood cells was observed. With increased time of exposure, erythrocytes demonstrated aggregation with conglomerate formation.
 669-678
669-678